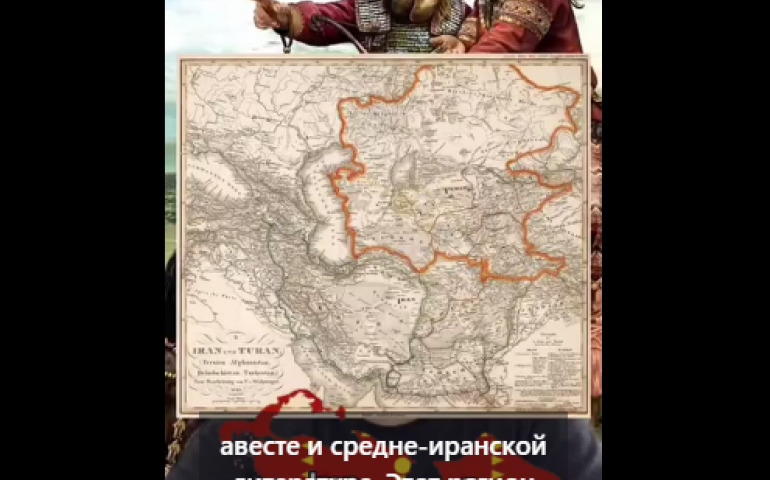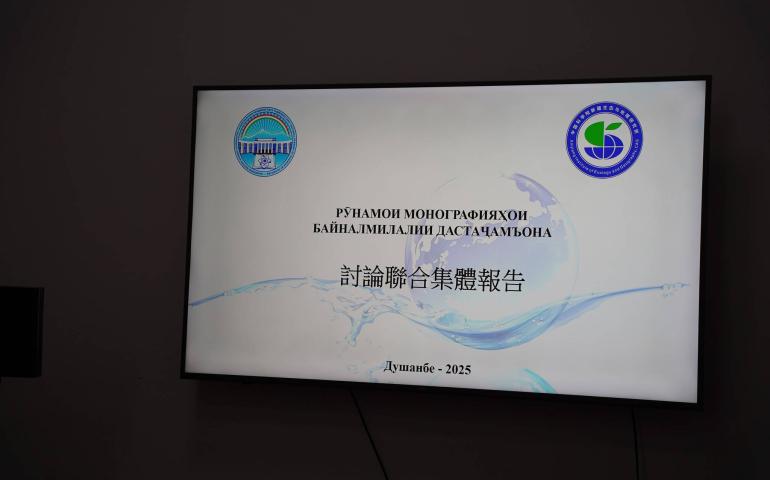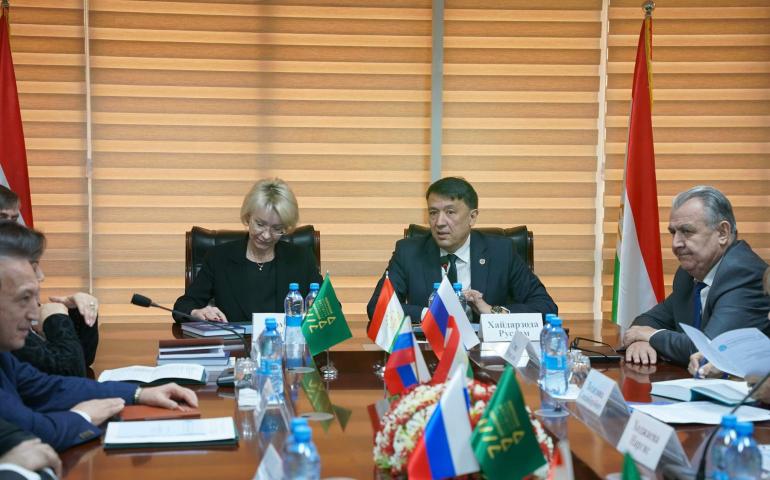Анализ ситуации в Центральной Азии, России и США показывает, что современный терроризм приобретает личностную направленность. Наибольшую опасность в этом плане представляют экстремистские акции и устремления отдельных фанатиков, использующих террор как средство достижения своих целей.
С другой стороны, в последнее время террористы стали активнее использовать в своих акциях национальные и религиозные факторы. При этом они якобы во имя защиты прав человека, народов и религиозных ценностей апеллируют к националистическим и религиозным догмам. В соответствии с этим, в деятельности террористических организаций возрастает значение религиозного экстремизма. Видимо поэтому при анализе причин терроризма многие исследователи вольно или невольно отмечают его конфессиональный характер. Этот вывод, как правило, делается по той причине, что исполнителями последних террористических актов являлись приверженцы ортодоксальных направлений ислама.
Однако, ошибочно было бы искать генезис терроризма в сегодняшних проблемах и противоречиях современного мира. Терроризм – довольно известное в прошлом преступление, которое оценивалось (как, впрочем, и всё остальное) исключительно с классовых позиций.
Для примера возьмем фигуру одного из самых известных террористов Х1Х века Андрея Желябова и освящение его в популярной литературе.
«Желябов Андрей Иванович – виднейший вождь «Народной воли», один из самых выдающихся представителей русского революционного движения. Ему принадлежит главная роль в подготовке и отчасти в непосредственном выполнении ряды неслыханно дерзких террористических актов. Он разрабатывает планы этих актов, организует динамитные мастерские, набирает боевые дружины и обучает товарищей метанию снарядов и употреблению оружия, часто сам начиняет и перевозит бомбы, роет подкопы». (БСЭ, 1932 года издания, том 14). «Андрей Желябов – человек огромной духовной и физической силы, выдающийся организатор, пламенный оратор, всегда деятельный… На стороне властей была армия, полиция, тюрьмы, на стороне народовольцев – смертельная ненависть к самодержавию, готовность жертвовать жизнью для счастья народа… Новое поколение борцов – пролетарские революционеры, унаследовав лучшие традиции революционеров 70 – 80 годов, отказались от ошибочного метода борьбы – индивидуального террора». (Детская энциклопедия 1961 года издания, том 6).
Как в Х1Х веке, так и сегодня на совершение террористических актов нередко идут люди, для которых собственная жизнь является лишь инструментом. А им можно пожертвовать ради достижения преступной цели, которая, будучи, по сути, сверхценной идеей, возведена в абсолют. На примере Желябова такой сверхценной идеей выступало гипотетическое «счастье народа».
Говоря о характеристике терроризма как международного явления, надо сказать, что на сегодня одним из самых распространенных методов террора является так называемый «устрашающий», или «слепой» террор, направленный на запугивание мирных граждан.
Говоря о единых подходах при определении стратегии борьбы с терроризмом, необходимо учесть, что терроризм, будучи сложным, многомерным явлением, тем не менее, при разработке его общего понятия должен быть формально определен такими правовыми признаками, которые не позволяли бы легко манипулировать этим понятием и произвольно употреблять его.
Иными словами, необходимо четко представлять себе, что терроризм, какими благородными идеями он не маскировался и какие бы конфессиональные идеи не выдвигал, по сути своей является преступлением. Само понятие «tеrror» (страх, ужас) предполагает доведение человека до состояния панического страха и бесконтрольного ужаса с целью решения определенных задач. Такой путь достижения цели, например, обращения в какую-либо веру, или принятия какой – либо политической доктрины в современном обществе не приемлем. Поэтому можно заключить, что терроризм не имеет отношения ни к одной религии, так как имеет внеконфессиональный характер. Точно также терроризм не является составной частью какой-либо современной политической доктрины. Это скорее идеологически мотивированное насилие, чем сама идеология. Правовой же анализ этого явления совпадает с признаками преступления, причем преступления с высокой общественной опасностью, поскольку обязательным его компонентом является однозначно определенная угроза жизни массы людей, для устранения которого необходимо выполнить требования террористов.
Общественное мнение не всегда было ярым противником терроризма. На заре истории террора, когда Вера Засулич застрелила генерала Трепова исключительно из – за идейных соображений, общественное мнение встало на её сторону и не осудило убийство. Засулич была передана суду присяжных, и обвинителем в суде выступал знаменитый русский юрист того времени А.Кони, который симпатизировал революционерам. Результатом этого было полное оправдание Засулич. Это был очень опасный прецедент: такая «героизация» террористов и придание ложного пафоса их деятельности привела к деформации общественного сознания и разделения убийства на обычное преступление и убийство по идейным мотивам. Общество фактически признало оправданное убийство как допустимую акцию в идеологическом споре. Это стало индульгенцией терроризму и послужило причиной расцвета террора как политического движения.
Кто они, террористы?
В любом обществе всегда существовала и существует особая категория молодых людей, которых можно обозначить, как "романтиков борьбы". Эта категория социальных активистов исходно оппозиционно заряжена, настроена на перемены. Они страстно желают быть услышанными. Это нормально и естественно. Таких людей немного, и в силу своих специфических психологических черт характера для них характерны такие свойства, как юношеский максимализм, склонность подвергать сомнению все устоявшиеся нормы и правила в сочетании с энергичностью и агрессивностью психологических установок. В период относительного общественного спокойствия эти люди не проявляют себя, поскольку общественный контроль и общественное порицание в эти периоды играют значительную роль в корректировке поведения личности. Но оказавшись в идеологическом вакууме, эта молодежь обращается к поиску хоть каких-то идеалов или чего-то более значимого, чем товарный фетишизм и материальное благосостояние. Но если культура и социум не принимает, не обсуждает или исходно отвергает идеалы таких социальных активистов, а наличная власть не обеспечивает их сколько-нибудь адекватной объяснительной системой современности, они легко могут трансформироваться в социальных фанатиков.
Если определить терроризм как социальное движение, то это движение скорее всего тех, кто по разным причинам не удовлетворен существующим положением вещей. Поэтому у них очень велико ощущение социальной несправедливости. Отсюда и стремление решить вопросы социального характера путем применения оружия, а не влиянием на экономическую жизнь. Этот губительный процесс, неоднократно пережитый всеми странами, и постоянно преследуемый официальными властями, тем не менее, сейчас находит своих последователей. Ощущение социальной несправедливости, безысходности, коррумпированность властей, поборы, вопиющая поголовная безграмотность, чувство невозможности повлиять на жизненно важные процессы, социальный и личностный дискомфорт, которые переживает основная масса населения так называемых «третьих» стран, - это питательнейшая среда для воспитания террористов всех мастей. Известен случай, когда террористу – камикадзе при благоприятном исходе акта было обещано «гарантированное попадание в рай, четыре жены и восемь тысяч долларов» (имеется в виду на том свете). И человек, не задумываясь, согласился взорвать себя на стадионе при огромном скоплении людей.
Пример российского терроризма начала ХХ века подтверждают, что терроризм – явление внесистемное. Засулич, Азеф, Каплан и другие российские террористы преследовали прогрессивные для того времени идеи и цели, однако средством достижения целей избирался один путь – убийство. Поэтому, поскольку практически весь мир стал жить по законам рынка, необходимы такие экономические решения, которые бы сбалансировали уровни национального дохода стран с рыночной экономикой. В этом случае из-под терроризма будет выбита самая мощная подоплека – экономическая.
Зачем они это делают?
Определив терроризм как насилие, направленное на достижение цели, нельзя не дать его криминологическую характеристику. Один из аналитиков терроризма, проф. Лунеев отмечает: «Основными причинами терроризма, на мой взгляд, являются социально – экономические причины, выраженные в величайшей социальной несправедливости, на которую потом наслаиваются многие другие обстоятельства и социально – экономические причины окрашиваются в тот или иной политический, идеологический, национальный или религиозный цвет, что ещё более упрочняет террористическую направленность отдельных групп, слоев, народов». Поэтому современный терроризм в широком понимании данного понятия – это, видимо, не столкновение религий, наций, цивилизаций, а антагонизм между страшной бедностью нередко богатых регионов и беспредельным богатством развитых стран. И здесь движущей силой выступает не столько сама бедность, сколько величайшая социальная несправедливость в мире, удерживаемая с помощью серьезного прямого или косвенного давления одних слоев общества над другими, одних стран над другими.
Бедность, как однажды сказал Махатма Ганди, - наихудшая форма насилия. Хотя сами идеологи терроризма нередко бывают людьми богатыми и влиятельными, своими идеями они могут мобилизовать тех, кто живет в крайней нищете, разочарован жизнью, испытывает отчаяние и готов убивать и сам идти на смерть. Терроризм – это оружие отчужденных, отчаявшихся людей и зачастую – продукт отчаяния. Состояние шестерых самых богатых людей планеты – Илона Маска, Джеффа Базоса, Билла Гейтса, Уоррена Баффета, Арно Бернара и Марка Цукерберга, составляющее свыше одного триллиона долларов, эквивалентно объему производства примерно 80 самых бедных стран мира. То есть, шесть человек на планете Земля владеют более триллиона долларов. Осознание таких фактов само по себе порождает в бедной среде крайнюю ненависть, и в дальнейшем генерирует её, подготавливая почву для терроризма. Поэтому всеобъемлющий подход к борьбе с терроризмом должен включать в себя кроме сугубо криминального понятия, понимание его социально – экономических корней.
Весьма важная деталь отражена в трактовке понятия терроризма: достижение цели (причем, любой цели), путем насилия, либо угрозы его применения. Вот квинтэссенция террора: для достижения цели применяется насилие. В этой связи вспоминается высказывание Монтескье: «Личность не есть орудие достижения целей, даже самых благородных».
Представляется, что терроризм – это, в первую очередь, средство психологического воздействия. Его главный объект – не те, кто стал жертвой, а те, кто остался жив. Его цель – не убийство, а устрашение, деморализация живых. Жертвы террора – это инструмент, а убийство – метод. Этим терроризм отличается от диверсионных действий, цель которых – разрушить объект (мост, электростанцию), или ликвидировать противника.
Терроризм имеет в качестве культурного основания нигилизм – отказ от общей этики. Он – продукт философии, которая как естественную норму жизни «войну всех против всех». Во время Французской революции террор стал официально утвержденным и морально оправданным методом господства.
Если обществу удастся внедрить в массовое сознание именно такую трактовку терроризма, лишенного ложной героики, без политики двойных стандартов, с четкой идентификацией террориста как преступника, тогда можно надеяться, что это принесет какие – то результаты. В самом деле, понятия «террорист» и «убийца» логично тождественны, но раздельно они до сегодняшнего дня воспринимаются по-разному, хотя оба они – суть преступники.
С другой стороны, перевод терроризма из многомерного явления, требующего многофункционального подхода, в одномерное, сугубо криминальное явление было бы упрощенческим подходом к решению проблемы терроризма. В данном случае представляется, что правильная расстановка акцентов на терроризме как на преступлении - это тот стержень, на котором будет базироваться решение проблемы.
И последнее – это тревожная тенденция совмещения принципов ислама с принципами терроризма и отождествление лиц – приверженцев ортодоксальных направлений религии ислама к потенциальным террористам.
В периоды трансформаций, в частности, в условиях современности, нигилизм в отношении традиционной правовой культуры особенно опасен. Он сыграл не последнюю роль в зарождении сепаратизма и провозглашении зон шариатского правления в некоторых частях Северного Кавказа. Продолжаются попытки индоктринации извне исламских фундаменталистских идей – джихада, реставрации халифатов в некоторых государствах Центрально – Азиатского региона.
Эта тема, довольно обширная и требующая детального изучения, в последнее время действительно заметно актуализировалась в связи с тем, что крупные террористические акты были проведены приверженцами ортодоксальных направлений этой религии. Однако, терроризм никогда не имел и не имеет ничего общего с принципами ислама. Истоки современного международного терроризма все – таки необходимо искать в других направлениях, в частности, в направлении процесса прераспределения собственности в мире после крушения социалистического лагеря и стремления к расширению (или завоеванию) влияния на глобальные экономические процессы и доступа к финансовым потокам. Ибо не устарело древнейшее правило римских юристов: «В каждом преступлении ищите того, кому это выгодно».
А.Абдуджалилов, - заведующий отделом Института философии,
политологии и права НАНТ, доктор юридических наук